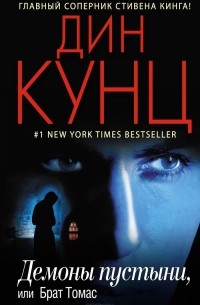Шрифт
Source Sans Pro
Размер шрифта
18
Цвет фона
Глава 5
Когда я поднялся из подвала на второй этаж, бодэчи не шастали по коридорам. Возможно, они толпились у кроватей других детей, но я полагал, что это не так. Скорее они покинули этот этаж.
Могли, конечно, перебраться на третий, где, не подозревая об их присутствии, спали монахини. Сестры тоже могли погибнуть при взрыве.
Пройти на третий этаж я без приглашения не мог, разве что при чрезвычайных обстоятельствах. Поэтому покинул школу и вновь вышел в морозную ночь.
Луг, окружающие деревья и аббатство, расположенное выше по склону, все еще ждали снегопада.
Тяжелых облаков, которые никак не могли им разродиться, я не видел, ибо горы были такими же темными, как небеса, а потому сливались с ними.
Бу бросил меня. Хотя он не против моей компании, я ему не хозяин. Он – существо независимое и гуляет сам по себе.
Не зная, что делать дальше и где искать причину, привлекшую сюда бодэчей, я пересек двор школы, направляясь к аббатству.
Температура моей крови понизилась с появлением бодэчей. Но эти злобные призраки и декабрьский морозный воздух не могли объяснить того холода, который пронизывал меня до мозга костей.
Истинной причиной этого холода, возможно, было осознание факта, что наш единственный выбор – погребальный костер или погребальный костер, что мы живем и дышим, чтобы сгореть в огне или огне, не просто сейчас и в аббатстве Святого Варфоломея, но всегда и везде. Сгореть или очиститься огнем.
Земля заурчала, земля задрожала под ногами, высокая трава колыхнулась, хотя ветра не было и в помине.
Хотя звук был едва слышным, движение – легким и ни один монах, скорее всего, даже не проснулся, инстинкт подсказывал – землетрясение. Но я заподозрил, что ответственность за содрогание земли лежит на брате Джоне.
От луга поднимался запах озона. Я заметил этот запах и раньше, во внутреннем дворике крыла для гостей, когда проходил мимо статуи Святого Варфоломея, предлагающего тыкву.
Когда через полминуты подземное урчание стихло, я осознал, что потенциальной причиной пожара и катаклизма могли быть не хранилище пропана и не бойлеры, которые обогревали наши здания. Следовало принять во внимание брата Джона, который работал в своем подземном пристанище, изучал саму структуру реальности.
Я поспешил к аббатству, мимо комнат послушников, на юг, мимо офиса аббата. Личные апартаменты аббата Бернара находились на втором этаже, над его офисом.
На третьем этаже была маленькая часовня, где он мог уединиться, чтобы преклонить колени перед Богом. За окнами часовни мерцал слабый свет.
В тридцать пять минут первого аббат скорее похрапывал, чем молился. А в часовне горела свечка, которая и подсвечивала окна.
Я обогнул юго-восточный угол аббатства и двинулся на запад, мимо зала для собраний капитула и кухни. Не доходя до трапезной, остановился у бронзовой двери, освещенной лампочкой. К двери вели три ступеньки. Над ней крепилась отлитая из бронзы панель с выпуклыми буквами надписи на латыни: «LIBERA NOS A MALO».
«Убереги нас от зла».
Мой универсальный ключ открыл замок и этой двери. Она бесшумно повернулась на шарнирных петлях, так плавно, словно и не весила полтонны.
За дверью находился коридор, залитый синим светом.
Бронзовая дверь за моей спиной захлопнулась и закрылась на замок, как только я подошел ко второй двери, из нержавеющей стали. На ней выгравировали еще три латинских слова: «LUMIN DE LUMIN».
«Свет из света».
Широкий стальной архитрав окружал этот непреодолимый барьер. В архитраве темнела двенадцатидюймовая плазменная панель.
Она осветилась, как только я плотно приложил к ней ладонь.
Я ничего не увидел и не почувствовал, но сканер, вероятно, опознал меня, потому что с шипением пневматики дверь открылась.
Брат Джон говорит, что шипение – необязательный атрибут процесса. Дверь можно открыть и бесшумно.
Но шипение для него – напоминание об одной истине: за любым человеческим начинанием, каким бы добродетельным оно ни казалось, маячит змей.
За стальной дверью меня ждала камера площадью в восемь футов, без единого шва, желто-восковой гипсовый сосуд. Я напоминал себе одинокое семечко, брошенное в полую, отполированную изнутри тыкву.
Шипение повторилось, но, повернув голову, стальную дверь я уже не увидел. Словно ее и не было.
Стены светились изнутри, и, как в прошлые визиты в это таинственное место, мне казалось, что я ступил в грезу. И одновременно почувствовал себя отрезанным от реального мира.
Стены померкли. Вокруг меня сомкнулась темнота.
Хотя камера, несомненно, была кабиной лифта, который опустил меня на один-два этажа, никакого движения я не почувствовал. И работала техника бесшумно.
В темноте засветился красным еще один прямоугольник, с шипением открылась очередная дверь.
В вестибюле, куда я попал, на меня смотрели три стальные двери. Справа и слева они представляли собой стальные пластины без ручек и замков. Пройти через них меня ни разу не приглашали.
Третью, по центру, украшала выгравированная надпись: «PER OMNIA SAECULA SAECULORUM».
«Во веки веков».
В красном свете матовая сталь напоминала раскаленные угли, зато отполированные буквы сверкали.
Без единого звука дверь с надписью «Во веки веков» уползла в стену. Приглашая меня в вечность.
Я ступил в круглую комнату диаметром в тридцать футов, совершенно пустую, если не считать четырех удобных кресел, поставленных по центру. У каждого стоял торшер, но в данный момент горели только два.
Там и сидел брат Джон, в рясе и наплечнике, но скинув капюшон с головы. До того как уйти в монахи, он был знаменитым Джоном Хайнманом.
Журнал «Тайм» назвал его «самым знаменитым физиком этой половины столетия, человеком с истерзанной душой». В приложении к статье приводился анализ «жизненно важных решений» Хайнмана, сделанный психологом, ведущим одной популярной телевизионной передачи, в которой обсуждались проблемы матерей-клептоманок и их страдающих обжорством дочерей.
«Нью-Йорк таймс» охарактеризовала Джона Хайнмана как «загадку, окутанную покровом тайны, внутри неизвестности». Двумя днями позже газета указала, что эти слова произнесла не Камерон Диас, делящаяся впечатлениями о встрече с Хайнманом, а Уинстон Черчилль, говоря о России в 1939 году.
В статье, озаглавленной «Самые тупые знаменитости года», еженедельник «Энтетейнмент уикли» назвал Хайнмана «идиотом от рождения, который не может отличить Эминема от Опры».
«Нэшнл инкуайер» пообещал представить доказательства того, что у Хайнмана и ведущей утреннего шоу Кэти Курик роман, тогда как в «Уикли уорлд ньюс» написали, что он встречается с принцессой Ди, которая (на чем они настаивали) вовсе не умерла.
В различных научных журналах ставились под сомнение результаты его исследований, его гипотезы, его право публиковать результаты исследований и основные положения гипотез, его право вести такие исследования и выдвигать такие гипотезы, его мотивы, его психическое здоровье, величина его состояния.
Если бы многочисленные патенты, ставшие результатом исследований, не принесли Хайнману многомиллиардного состояния, пресса им бы не заинтересовалась. Богатство – это власть. А власть – это единственное, что интересует современную публику.
А если бы он не отдал все свое состояние, даже не выпустив пресс-релиз и не раздавая интервью, они не испытывали бы по отношению к нему такого раздражения. Репортеры живут ради власти, точно так же, как поп-звезды и кинокритики.
За годы, прошедшие с того знаменательного события, его бы разом простили, если бы засекли с какой-нибудь шлюхой или поместили в клинику лечиться от наркотической зависимости. Пресса сразу вознесла бы его до небес. В наш век потакание своим желаниям и самоуничтожение, а отнюдь не самопожертвование, являются основой новых героических мифов.
Вместо этого Джон Хайнман провел эти годы в монастырском уединении, более того, месяцами жил как отшельник, сначала в разных местах, потом здесь, в подземном убежище, ни с кем не перекидываясь ни словом. Его медитирование отличалось от медитирования других монахов, но вызывало не меньшее уважение.
Я пересек сумеречную зону, окружавшую четыре стоящих по центру кресла. По каменному полу. Лишь под креслами пол устилал ковер цвета красного вина.
Тонированные лампы и абажуры из темно-коричневой ткани давали темно-медовый свет.
Брат Джон был высокий, огромный, широкоплечий. И руки, которые в этот момент лежали на подлокотниках кресла, были большие, с широкими запястьями.
А вот лицо – круглым, хотя к такой фигуре куда больше подходило бы удлиненное. Свет торшера отбрасывал тень прямого носа к левому уху, словно само лицо – диск солнечных часов, нос – центральная ось, а левое ухо – девятичасовая отметка.
Рассудив, что второй зажженный торшер указывал, какое кресло мне следует занять, я сел напротив брата Джона.
На его фиолетовые глаза набегали тяжелые веки, не мигая, он смотрел прямо перед собой.
Предположив, что он медитирует, а потому мешать ему нельзя, я не произнес ни слова.
Молчание среди монахов аббатства Святого Варфоломея приветствуется всегда, за исключением разрешенных уставом периодов общения.
Дневное молчание называется Меньшим, оно начинается после завтрака и продолжается до вечернего послеобеденного рекреационного периода. Во время Меньшего молчания братья говорят друг с другом, только если этого требует работа в монастыре.
Молчание после вечерней молитвы называется Большим. В аббатстве Святого Варфоломея оно продолжается до завершения завтрака.
Я не хотел побуждать брата Джона к необходимости отвечать мне. Он знал, что я не приду к нему в такой час без веской на то причины. Но решение, нарушить молчание или нет, оставалось за ним.
Ожидая, я оглядывал комнату.
Поскольку лампы здесь всегда горели тускло и только по центру, мне не удавалось разглядеть стену этого кругового помещения. Вроде бы она поблескивала в темноте, и я подозревал, что сделана она из стекла, за которым царит чернота.
Мы находились под землей, но ощущения, что эта комната вырублена в скале, не было. Потолок отстоял от пола на добрых девять футов.
Почему-то мне, когда я попадал сюда, казалось, что вокруг комнаты – аквариум. Но ни одна рыба не проплывала мимо. Ни одно подводное чудовище не таращилось на меня сквозь стекло.
Ассоциации с аквариумом, возможно, возникали у меня потому, что брата Джона я воспринимал как капитана Немо в рубке «Наутилуса». Сравнение, конечно, подобрал неудачное. Немо был могущественным человеком и гением, но крыша у него точно съехала.
А брат Джон психическим здоровьем не отличался от меня. Понимайте мое утверждение как хотите.
Где-то через минуту он добрался до конца некой цепочки рассуждений, которую ему не хотелось прерывать. Взгляд его фиолетовых глаз покинул далекое далеко и сфокусировался на мне.
– Возьми пирожное, – предложил он густым басом.