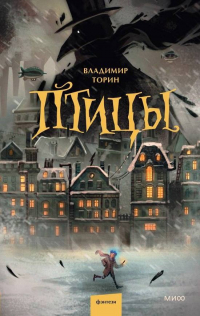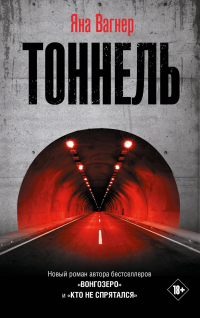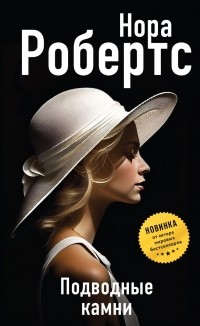Огонь и честь
Савва Голованивский
| Издательство: | Известия Советов депутатов трудящихся СССР |
Лучшая цитата на книгу
Немцы были уже на окраинах. Городок пылал во многих местах, и едкий дым стлался над улицами, как утренний туман над долинами рек. Люди, перебегавшие с места на место, казались погруженными на дно, и их неестественные движения делали картину совершенно мистической. Все вместе это казалось страшным сном, и только вдруг раздававшийся взрыв пробуждал нас и возвращал к действительности.
Мы шли вдвоем по одной из этих улиц — я и мой друг. В запасе у нас было полчаса, может быть, час. Но мы не спешили. Мы сознавали, что наша родная земля остается позади, и старались как можно дольше пробыть в ее благословенной сени. Мы знали, что придет время и живые вернутся назад. Но будем ли мы среди них—этого мы не знали.
За город тянулись вереницы подвод и тачек. Люди уходили от ожидавшей их гибели. Шли женщины с ребятишками на руках, шли дети, держась за подолы материнских юбок. Уходили многие, но уходили не все.
Из-за плетня выглядывало сморщенное лицо старика в порыжевшей старомодной шляпе. В коляске на велосипедных колесах сидел инвалид. Старушка сморкалась в платок, горестно глядя вслед уходящим соседям... Эти не могли уйти. Сыновья их и внуки дрались где-то на полях войны. Может быть, придя в городок, немец повесит их первыми за отвагу их питомцев. Но, даже чуя гибель, они не в силах были уйти. Разве могли бы их кости вынести испытания далекой дороги?
Мы видели на своем пути много горя и много укоряющих глаз. Мы научились их понимать и читать взгляды, как книги. Но привычка притупила боль. И только одна эта женщина поразила нас истиной, которой мы еще ни разу не читали на страницах укоряющих глаз.
Она стояла у костра и жгла книги. Само по себе это не могло казаться странным. Возможно, она боялась вещественных улик, а может быть хотела скрыть от немцев что-то святое, похоронив его в пламени. Удивительным было только то -- как она это делала, как предавала огню эти аккуратно сложенные, замусоленные томики.
Она брала их из высокой стопки, лежавшей у её ног на траве. Раньше чем бросить в огонь, она разворачивала первую страницу и, как бы прощаясь с живым существом, награждала его долгим всепрощающим взглядом. И столько было бесслезной грусти в ее взгляде, столько всепожирающей тоски, что мы невольно остановились перед ней в немом оцепенении.
— Что вы делаете? — спросил я, совершенно растерянный.
Женщина ответила не сразу. Некоторое время она ещё смотрела на титульную страничку книги, затем, с усилием оторвав глаза, взглянула на меня. Казалось, это возвратило ее к сознанию. И уже отвернув от меня лицо и глядя в пространство, женщина медленно и тихо ответила:
— Я жгу себя.
Мне показалось, что я ослышался. Конечно, мой вопрос был неуместен: и без него я отлично видел, что делала она. Но ее неожиданный ответ поразил меня. Что он мог означать? В здравом ли уме была эта женщина?
— Как? Что вы сказали?.. — невольно переспросил мой друг. — Вы жжете...
— Себя, товарищ. — Она тяжело вздохнула и почти безвольно опустила руку с неловко раскрывшейся книгой. Набежавший ветерок зашумел в растрепанных страницах.
Только теперь я присмотрелся к ее лицу. Ей было за сорок. Чуть пробивавшаяся проседь подчеркивала волевую собранность всего облика. Бледный, с чуть прочертившими его морщинами, круто подымался умный лоб.
— Я жгу свою жизнь... — скалила она чуть мягче, и мы готовы были благодарить ее за это снисхождение. — Ведь жизнь моя... все мое счастье написано на этих замусоленных стареньких страницах.
Скупую улыбку мы восприняли, как прощение. Ведь мы, так грубо ворвавшиеся в мир её непонятных мыслей, действительно нуждались в прощении. Но теперь окончилось минутное замешательство, и мы могли облегченно вздохнуть.
— Я с вами не могу уйти. — сказала она. — У меня старая мать и больной отец. Каждому из них уже за семьдесят. У меня трое детей, и старшему одиннадцатый год. Да, они могли быть повзрослей — я ведь уже не молода! Но о своем семейном очаге я стала заботиться слишком поздно! Я сочла себя вправе заняться собой, лишь став полноценным человеком.— Она произнесла эти слова с оттенком того грустного сожаления, которое звучит только у людей, познавших прелесть быстро минувшего счастья.
— Нет, я не осуждаю вас! — сказала она, садясь на скамейку. —
Я мало понимаю в войне и не знаю — может быть, так надо. Но знаете ли вы, сколько крушите надежд, уходя из этого города? Я не говорю о худшем, ожидающем нас. Но в эти дни ничего не было трепетнее нашей надежды на то, что враг сюда не придет, что может быть, даже близко от нас, но он будет остановлен.
Теперь я понимаю — горе постигло и нас. Я должна спасти свое прошлое от надругательств врага. Будущее мне ясно: смириться я не смогу. Разве сможет быть рабом тот, кто испытал уже однажды тяжесть рабства, а потом жил свободным! Пускай смерть, лишь бы не возвращение вспять.
Мы еще не совсем понимали ее. Слова эти казались нам чуть-чуть излишне приподнятыми, но это объяснялось ее волнением и, конечно, трагичностью момента. Мы сели рядом с ней на траве и, несмотря на все приближавшийся грохот, погрузились в ее жизнь. Нет, мы не думали, что она посеет в нас настоящую бурю!
И женщина рассказала нам свою жизнь. Рассказ этот, видно, помог ей переживать все сначала, как переживала она, глядя на обложки сжигаемых книг. Теперь она больше не просматривала их. Вслепую, под ряд брала она их и, окончив эпизод, связанный с каждой, бросала ее в огонь.
— Мне шел двадцать первый год, когда я впервые взяла в руки азбуку, — сказала женщина. — Вот она догорает; она была первой книгой, попавшей в мои руки, и она первой ушла в огонь из моих рук. Я была тогда домработницей.. забитой сельской девушкой, и ко мне пришла советская власть и сказала: «Возьми эту книгу и научись читать. У тебя просветлится душа...» Меня вели за руку, как слепую, а я шла и была счастлива.
Я служила у страшной хозяйки, у некоей Ефросиньи Калистратовны. Она ежечасно меня истязала и подвергала нравственным мучениям. Но трудно даже представить себе, что произошло с ней, когда она увидела в моих руках книгу.
Я ведь теперь не пожелала работать круглые сутки. Я старалась выкроить часок для своего учения. И вот однажды, поймав меня за любимым занятием, Ефросинья Калистратовна заперла меня в чулан и избила до полусмерти. Особенно озлобило ее то, что в последний момент я успела упрятать от нее свое сокровище — свою азбуку и наотрез отказалась выдать ее для уничтожения.
Через несколько дней, когда я вышла на улицу, сосед наш заметил мои синяки. Видно, он рассказал кому-то и моем горе, так как хозяйку вызвали в суд. Это было непонятно не только для нее, но и для меня. Видно, это произошло тогда, когда родилась справедливость, ставшая стеной между нами.
Кто были люди, просветившие меня? Почему так заботились они о моем счастье? Этого я сразу понять не могла. Я многое тогда не понимала. Я чувствовала только, что ворвался воздух в мое кухонное окно, и я поняла, что ожила, как волшебный камень, в который вдохнули жизнь.
Затем я рассталась с кухней. Однажды пришли ко мне комсомолки и вручили мне путевку на рабфак. Я уехала в этот город н начала изучать арифметику на приготовительном курсе. Вот книга, по которой я изучала таблицу умножения.
Женщина в мгновение умолкла и, бросив сразу несколько книг в костер, вдруг воскликнула:
— Сколько наивного горя пережила в те далекие дни! Сколько слез пролила над казавшимися мне неразрешимыми задачами! Я думала, что никогда не постигну этой ученой премудрости. Но откуда-то появлялись люди, которым я была нужна. Одни мне помогали постигнуть непонятное. Другие заботились о моей одежде. Третьи заседали в профкоме и давали мне путевку на курорт.
Что это было — счастье, свалившееся с неба, или чудо, ослепившее меня своим удивительным блеском? — она бросила в потухающий костер свой старый сборник арифметических задач, и страницы, испещренные цифрами, начали сворачиваться в черные трубочки в оживающем пламени. — Это мое опоздавшее детство. Сейчас я бросаю его в огонь. Сейчас оно сгорят, и у меня останется о нем только смутное воспоминание.
— Да, я жгу себя, сжигая эти старенькие книжки! — сказала она, вздохнув. — Они составляют мою жизнь, как камни составляют дорогу: из них сложилась я, как складывается время из минут; каждая из этих книг — это верстовой столб к счастью, которое мне помогли вкусить и постигнуть. Ни одна из них не живет для меня самостоятельно — все они стали одной биографией единой моей жизни. Теперь я жгу ее, потому что обрывается ее счастливое течение и ужас должен заменить её, начиная с сегодняшнего дня.
...Я сидел, потрясенный разверзшейся перед моими глазами глубиной. Неужели только сейчас понял я то, что столько раз кричало о себе на пути нашего отступления? Мне легче бы было слушать проклятия, чем этот рассказ. Мне приятнее было бы перенести пощечину, которая дала бы мне право ответить, защитить свою честь. Но теперь я был беззащитен перед лицом разразившейся надо мной правды, как была беззащитна эта женщина перед ужасом, надвигающимся на неё. Сознание своей беззащитности еще сильнее поражало меня, чем кажущееся ее прощение, и я начинал ощущать на своем лице яркую краску стыда.
Да! Если бы перед нашим воображением чаще вставали картины ужасов, чинимых немцами, мы не отступали бы в этот день. Если бы, прощаясь с каждой пядью родной земли, в провожающем нас молчании мы слышали вопли и мольбы оставляемых там сестер и матерей, стыд превратил бы нас в камень, о который расплющивался бы вражеский металл.
Как мог я не чувствовать этого, не видеть и отступать?
Мы не должны были уходить — это мы всегда сознавали. Но сознание этого рождалось слишком субъективной болью. В каждом из нас была сильна горечь, сокрушительно—душевное страдание от разлуки с родной землей. Но угрызения совести, стыд, оскорбление нашей воинской чести мы почувствовали только теперь, после встречи с этой женщиной.
Впервые в жизни в этот момент я себя презирал.
Что ожидало эту женщину сегодня же, через час? Может быть, ее повесят за мужа, сражающегося в наших рядах? А, может быть, поступят еще страшнее и оставят в живых. Страшнее, ибо сделать рабом человека, вкусившего свободу, — разве бывает пытка еще ужаснее?
Немцы отнимут у нее детей и погонят их впереди своих солдат, идущих в наступление. Если дети откажутся или не смогут итти, их прикончат штыками. Пожилую женщину угонят на запад и попытаются сделать рабой. Белобрысые рабовладелицы будут таскать ее за седеющие косы, как таскала когда-то проклятая Ефросинья Калистратовна. Но то, что могла безропотно переносить 25 лет тому назад забитая сельская девушка, заставит повеситься в немецком стойле человека, постигнувшего мудрость жизни и завоевавшего свою свободу собственным трудом.
Я стоял перед этой женщиной с винтовкой в руке, и она меня не проклинала! Но я уже знал, что, если уйду, то предам ее и совершу преступление, которому нет равных.
Город содрогался от разрывов и гудел, как барабан от прикосновения барабанщика. Дым стлался по улицам, и из него, как из пустоты, вдруг появлялась группа людей или автомобиль. Там, на окраинах, шел бой, но в громыхающих выстрелах я уже не чувствовал того ожесточения, которого требовал сейчас от себя.
Я поднялся и, почему-то быстро обернувшись, посмотрел в сторону проходивших мимо бойцов. Женщина уловила мой взгляд и тоже привстала. Подумала ли она, что мне пора, или хотела сама поторопить своим движением, но, быстро нагнувшись, она подняла лежавшие еще на траве книги, готовясь сразу бросить нх в огонь.
— Погодите... — сказал я почти шопотом, силясь преодолеть овладевшее мною волнение. — Не нужно...
— Почему же?.. Ведь вы хотите уходить?.. Значит, конец... — ответила она тихо, — Книги плохо горят, а времени мало. Я не успею их сжечь.
— Не нужно, — сказал я прерывающимся голосом. — Я сожгу себя, но не уйду отсюда. Это мой долг, если в воин.
Еще мгновение смотрел я на нее и вдруг почувствовал, как что-то едкое обволакивает мой взор и застилает непроницаемым туманом. Может быть, это был дым, расползшийся по городу и режущей болью впившийся в глаза.
Я быстро вышел на улицу и, не оборачиваясь, ушел в бой. Долго-долго чувствовал я на себе ее взгляд. Взгляд, благословляющий на битву.
Савва ГОЛОВАНИВСКИЙ.
Год издания: 1942
Язык: Русский
Архивный материал: газета Известия Советов депутатов трудящихся СССР, 8 августа 1942, №185 (7871)
Похожие книги
Вы можете посоветовать похожие книги по сюжету, жанру, стилю или настроению. Предложенные вами книги другие пользователи увидят здесь, в блоке «Похожие книги». Посоветовать книгу